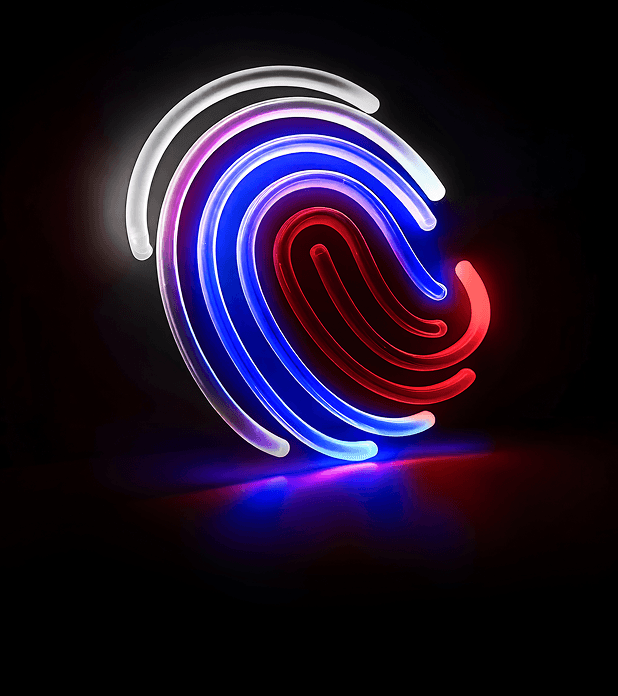Ещё год назад Кирилл Дмитриев оставался для широкой публики технократом-инвестором: главой Российского фонда прямых инвестиций, типичным «экономическим спецпредставителем» режима, работающим с арабскими, азиатскими и оставшимися нейтральными капиталами. А к концу ноября 2025 года его фамилия звучит уже в контексте, который в России обычно зарезервирован для самых влиятельных людей страны: «архитектор переговоров», «канал к Трампу», «потенциальный будущий премьер», а теперь — и фигура, вокруг которой некоторые элиты пробуют строить сценарии «после Путина».
Его очередное резкое всплытие связано с одним событием: утечкой 28 пунктов американского мирного плана, который, по сообщениям западных медиа, готовился при плотном неформальном взаимодействии Дмитриева и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. В этих утечках Дмитриев впервые возникает не как обслуживающий экономику технократ, а как соавтор политической развязки войны — и, значит, как человек, претендующий на совершенно иной уровень власти.
Дмитриев — продукт другой эпохи российской элиты. Уроженец Киева, учившийся в Стэнфорде и Гарварде, работавший на Западе (McKinsey, Goldman Sachs), он был привезён в Москву как менеджер, который должен говорить с глобальными деньгами их языком. Его карьерный трамплин — РФПИ. Фонд создавался как витрина «нормальной инвестиционной России», и Дмитриев сделал из него не просто кошелёк, а дипломатический инструмент: совместные фонды с Саудовской Аравией, ОАЭ, Китаем, проекты в инфраструктуре, технологиях, ресурсах.
Внутри системы Путин ценит таких людей не за публичность, а за полезность там, где обычная дипломатия не работает. Для Кремля Дмитриев всегда был «инструментом доступа» — к рынкам и капиталам, к тем переговорным площадкам, где официальных российских чиновников уже не ждут.
У Дмитриева есть редкая для кремлёвского аппаратчика компетенция: он давно встроен в американскую элитную среду и умеет разговаривать с ней на экономическом, а не идеологическом языке. Со времён первой администрации Трампа его имя всплывало в истории с «неформальными каналами связи» между окружением Трампа и Кремлём — как фигура, способная вести диалог там, где дипломаты бессильны.
В 2025-м эти навыки оказались снова востребованы — уже в более прямом виде. По данным нескольких западных изданий, именно Дмитриев стал одним из главных российских interlocutor’ов для Уиткоффа в работе над мирной схемой по Украине. Это не означает, что он «заменил МИД» или «командует переговорами». Но означает другое: в «тайной дипломатии» Москвы — там, где нужны личные гарантии, деньги и неофициальные формулы, — он стал ключевым оператором.
Связка Уиткофф—Дмитриев выглядит особенно показательной, если смотреть на неё не как на «секретный мост Кремля к Трампу», а наоборот — как на канал американского влияния внутрь российской системы. Уиткофф действует как корпоративный посланник: его задача — не выстраивать долгое равновесие интересов, а принести Трампу сделку, которую можно предъявить миру как персональную победу. Дмитриев, в свою очередь, — идеальный партнёр именно для такой миссии: он мыслит категориями выгод и управляемых рисков, а значит, способен упаковать американскую формулу мира так, чтобы она выглядела в Москве «реалистичной» и заманчивой.
Но в этой упаковке и скрыт ключевой поворот: Дмитриев выступает не только посредником, но и проводником западной концепции, которую он приносит Путину как «единственно рациональный выход». Остановка войны в обмен на фиксацию линии фронта, блокировку НАТО, частичную разрядку санкций — это политический каркас. Однако экономическое ядро плана встраивает Россию в конструкцию, где стратегические ресурсы становятся платой за «красивый выход».
В кремлёвской системе влияние измеряют не количеством интервью, а тем, насколько твои инструменты нужны первому лицу. Путин делает ставку на Дмитриева не потому, что тот сильнее силовиков или дипломатических тяжеловесов, а потому что он идеально подходит для роли тихого проводника решения — без ощущения, что Москве его навязали. Дмитриев даёт Путину то, чего сейчас почти ни у кого нет: устойчивый личный канал к людям из трамповской орбиты, где сделки делаются не через ведомства и протокол, а через доверие, деньги и обещания будущих выгод.
Вторая причина — стиль мышления: Дмитриев умеет переводить войну в язык коммерческого «пакета» и тем самым делает американские интересы психологически приемлемыми для Путина. Там, где МИД говорил бы о статусе, истории и принципах, Дмитриев говорит о санкциях как об обменной монете, о территориях как о «реалиях на земле», о НАТО как о цене за реинтеграцию России в рынки и инвестиции.
И, наконец, Дмитриев удобен аппаратно: он не имеет собственной силовой опоры и потому безопасен для Путина как инструмент — а значит, ему можно доверить тонкую задачу «подталкивать, не раздражая». Но именно эта аппаратная безопасность делает его особенно эффективным проводником внешней логики: через Дмитриева Путину подсовывается сделка, где за «выход из войны с сохранением лица» Россия расплачивается уступками, способными закрепить её зависимость от Запада уже в новом, поствоенном формате.
Самая токсичная часть — экономические инициативы. Формально они подаются как «перезапуск» и «реинтеграция», но по сути означают передачу контроля над огромными кусками будущего роста. Совместное освоение Арктики в американо-российских проектах превращает ключевую зону российских суверенных интересов в площадку для раздела ресурсов и технологий под стратегическое лидерство Вашингтона. А схема с замороженными активами легитимизирует их частичное изъятие и перераспределение: Россия не возвращает международные резервы как своё имущество, а соглашается на их конвертацию в американские и смешанные фонды, теряя не только деньги, но и главный переговорный рычаг на будущее.
Связи Дмитриева с «семейным контуром» Кремля — не слух про дальние знакомства, а реальность. Его жена Наталья Попова много лет близка к дочери Путина Катерине Тихоновой: они вместе учились и работали, а в Иннопрактике Попова была её заместителем и публичным лицом проектов, связывающих «технократическую» повестку с ресурсами государства. Для путинской системы это особый тип близости — «домашний», где доверие передаётся через семью и совместные проекты. Именно поэтому Дмитриев способен заходить туда, куда не заходят ни МИД, ни силовики: он воспринимается как «свой» в пространстве, где решается не политика, а судьба системы.
Отсюда и ставка Путина на Дмитриева в украинском треке: если тот проталкивает «большую сделку» с США, Кремль получает редкую возможность выйти из войны так, чтобы это выглядело как выигрыш, а не отступление. Для Дмитриева это мгновенный скачок статуса — от технократа к человеку, который «спас систему», и именно поэтому старые кланы видят в нём угрозу своему влиянию.
Если послевоенная конфигурация будет строиться вокруг частичной нормализации с Западом, Кремлю понадобится фигура «второго этапа» — управленец, способный держать внешний канал и оставаться своим внутри вертикали. Дмитриев подходит: он семейно допущен, аппаратно безопасен и при успехе переговоров может закрепиться как главный архитектор «выхода с красивым лицом».
Логика Трампа при этом прагматична: ему нужен не просто мир, а разрыв усилившейся связки России с Китаем, которая стратегически бьёт по США. Плюс он раздражён Зеленским и ищет в Москве надёжного проводника своей линии — человека, который удержит Кремль в рамках американского компромисса и не даст России окончательно уйти под Пекин. В этой роли Дмитриев выглядит для Вашингтона почти идеальным агентом влияния.
Российская система производит преемников по простому критерию: кто гарантирует элитам безопасность, деньги и непрерывность режима. Дмитриев пытается доказать это через западную развязку войны, которая краткосрочно спасает Кремль в обмен стратегические уступки — от Арктики до замороженных активов. Если план сработает, он поднимется до уровня возможного наследника; если нет — останется фигурой, рискнувшей слишком крупно.