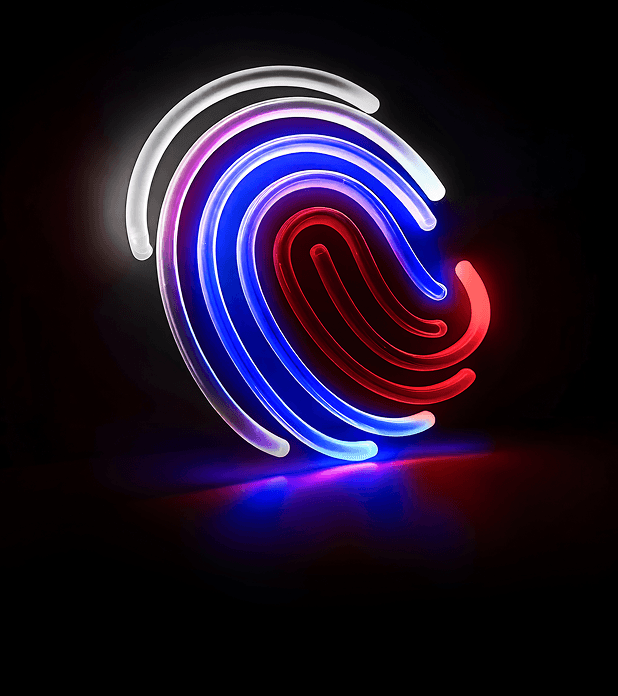История братьев Магомедовых — это не просто уголовное дело о хищении миллиардов, а масштабная драма, в которой переплелись большие деньги, государственные интересы и внутренняя борьба силовых кланов.
Арест в марте 2018 года владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, стал началом крупной корпоративной войны за их активы. Магомедовы успели выстроить империю — от портов и логистики до энергетики и зернового экспорта. Самого Зиявудина Магомедова задержали 30 марта, когда он явился на допрос в Следственный департамент МВД. На следующий день он собирался с семьёй улететь в Майами. Рейс частного бизнес-джета был запланирован на полдень.
В уголовном деле Магомедовых было семь эпизодов, первый из которых расследовался с 2014 года. Следствие проходило довольно вяло, пока дело не поступило в производство следователя СД МВД Николая Будило. Это фигурант «списка Магнитского»: он попал туда как следователь, возбудивший одно из уголовных дел против фирм Браудера.
Будило энергично взялся за работу: уже в октябре Зиявудина Магомедова впервые вызвали на допрос, однако он не пришёл, сославшись на заграничную командировку. Сам Будило был известен в Следственном департаменте МВД как «карманный следователь» 6-й службы УСБ ФСБ, которую ранее руководил близкий к Сечину Олег Феоктистов, а замом у него был Иван Ткачёв. И по странному стечению обстоятельств Будило выбрал оперативным сопровождением по делу именно управление «К» СЭБ ФСБ, которое в 2017 году возглавил всё тот же Иван Ткачёв.
Обращает на себя внимание и спешка с арестом Магомедова. Дело по 210-й статье УК РФ (создание преступного сообщества) было возбуждено только 29 марта, то есть накануне задержания бизнесмена. А в день задержания, почти в полночь, на Петровку на допрос — причём без адвокатов — доставили свидетеля, Владимира Смирнова, бывшего заместителя директора ОЗК. Во время этого ночного допроса Смирнов дал показания против Магомедовых, причём резко отличающиеся от всех предыдущих.
Но то, что начиналось как история успеха, завершилось суровым приговором: 19 и 18 лет колонии строгого режима. Позднее это решение Мещанского суда Москвы от 1 декабря 2022 года было смягчено на полгода в апелляции. Так завершилась кульминация дела, охватившего весь спектр эпизодов — от подрядов ЧМ-2018 до портов Новороссийска и Владивостока.
Вслед за приговором последовали взыскания и конфискации активов, включая около $750 млн по линии Новороссийского морского торгового порта (НМТП). В Лондоне, где Магомедов пытался оспорить «скоординированное отчуждение» своих долей в FESCO и НМТП, суд отклонил его иск на $13,8 млрд, оставив без рассмотрения аргументы о международном заговоре.
Однако за сухими строками судебных актов скрывается куда более сложная картина. По ряду признаков «дело Магомедовых» стало вехой силового перераспределения собственности, совпавшей с перестановками в ФСБ и изменением расстановки влияния внутри Кремля.
С начала 2010-х годов группа «Сумма» Зиявудина Магомедова была одним из главных подрядчиков государства в инфраструктурных проектах. Благодаря прямой поддержке премьера Дмитрия Медведева и вице-премьера Аркадия Дворковича (курировавшего ТЭК, транспорт и связь) Магомедовы участвовали в подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года, строили и модернизировали объекты от Калининграда до Владивостока.
В 2011 году Зиявудин Магомедов летал вместе со старым другом Дворковичем и главой государства Дмитрием Медведевым на саммит АТЭС в Гонолулу. В 2012-м — на правах главного организатора — сидел по правую руку от президента Путина уже на саммите этой же организации во Владивостоке.
В эпоху Медведева о Магомедове впервые заговорила федеральная пресса. Группа «Сумма» вызвалась закончить реконструкцию Большого театра, тянувшуюся ещё с 2005 года. К проекту бизнесмен подошёл с купеческим размахом: на позолоту лепнины в зрительном зале ушло 4,5 кг сусального золота, позолотой было покрыто 893 м². Магомедов ничего не заработал на этом подряде; после открытия Большого театра осенью 2011 года «Сумма» устроила приём, куда отправились чиновники, бизнесмены и приезжие звёзды вроде Моники Беллуччи. Реконструкция Большого театра считалась самым амбициозным проектом президента Медведева.
ФБК ещё в 2015 году утверждал, что Зиявудин Магомедов оплачивал отдых пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки на яхте The Maltese Falcon. Но за фасадом успеха и связей в высоких кабинетах накапливались претензии силовиков.
История империи Магомедовых — это не только Зиявудин и Магомед, но и их двоюродные братья — Ахмед и Магомед Билаловы, фигуры, сыгравшие заметную роль на Северном Кавказе в начале 2010-х. Ахмед Билалов, глава компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президент Олимпийского комитета России, был центральной фигурой проекта развития горнолыжных курортов Сочи и Кавказа. Именно он курировал строительство олимпийского трамплина «Русские горки» — проекта, ставшего символом бюджетных провалов и коррупционных скандалов Олимпиады-2014.
В феврале 2013 года Владимир Путин во время инспекции олимпийских объектов публично отчитал Билалова, указав на восьмикратное превышение сметы и срыв сроков. Этот эпизод попал в новости и стал редким примером публичного разрыва между Кремлём и «своими» инвесторами. После этого Ахмед Билалов был уволен с поста главы «Курортов Северного Кавказа», отстранён от Олимпийского комитета и вскоре стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях. Однако, как и многие подобные дела в России, оно закончилось ничем — уголовное преследование постепенно сошло на нет.
Другой двоюродный брат, Магомед Билалов, занимался строительством трамплина через структуру «Красная Поляна». После начала проверок и возбуждения дела он покинул Россию, и ему было заочно предъявлено обвинение. По данным СМИ, оба брата — Ахмед и Магомед — уехали за границу, предположительно в США, и с тех пор публично не появлялись.
Связь между семьями Билаловых и Магомедовых — не только родственная, но и экономическая. На рубеже 2000-х и 2010-х они вместе формировали дагестанский финансово-инвестиционный контур: Зиявудин Магомедов курировал федеральные инфраструктурные проекты (порты, логистику, энергетику), а Билаловы — туристические и девелоперские активы на Северном Кавказе. После олимпийского скандала 2013 года и ареста Магомедовых в 2018-м вся эта группа оказалась под политическим и экономическим прессингом — семейный клан был фактически уничтожен.
История Билаловых стала прологом к делу Магомедовых.
В 2014–2017 годах силовые структуры начали проверять целый ряд проектов: «Арену Балтика», инфраструктуру Крестовского острова, аэропорт Храброво, энергосети и стройки в регионах. 31 марта 2018 года следствие перешло в открытую фазу: были арестованы Зиявудин и Магомед Магомедовы, а вместе с ними — ключевые менеджеры и подрядчики. Впервые за долгое время под уголовный пресс попала структура, связанная с именем бывшего президента Дмитрия Медведева и тесно интегрированная в государственные мегапроекты. Многие тогда посчитали атаку на Магомедовых началом падения Медведева.
В последующие три года (2018–2021) следствие сопровождалось масштабными арестами активов и корпоративными переделами. Государственные игроки — прежде всего «Транснефть» и профильные банки — начали консолидировать доли в НМТП, FESCO и ОЗК. Формально это выглядело как защита интересов государства, но по сути стало крупнейшим перераспределением собственности после кризиса 2014 года.
После вступления в силу приговора по уголовному делу Магомедовх последовала волна взысканий и конфискаций: в доход государства были обращены активы на сумму около $750 млн, включая долю в НМТП. Но история не закончилась приговором — она вышла за пределы российских судов.
В сентябре 2020 года арестованный владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов призвал правоохранительные органы предотвратить рейдерский захват Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO). Бизнесмену на тот момент принадлежало 32,5 % FESCO, и за попыткой захвата, по его словам, стояли люди, которых он сам когда-то привёл в компанию — в том числе председатель совета директоров, экс-глава группы «Сумма» Лейла Маммедзаде.
В Лондоне Магомедов подал иск на $13,8 млрд против TPG, Transneft, DP World и ряда других структур, утверждая, что его активы были отчуждены в рамках скоординированной кампании. Однако в январе 2025 года Высокий суд Англии отказал в рассмотрении иска, сочтя, что у него «нет реальных перспектив на успех». А уже в мае 2025-го российская кассация оставила приговор без изменений.
Параллельно, в 2024–2025 годах, в фокусе правоохранителей оказались юристы и консультанты, занимавшиеся банкротствами компаний «Суммы». Им вменили хищение около 7 млрд рублей, взысканных ранее. Следствие словно «дожимало» остатки некогда гигантской империи.
На момент ареста группа «Сумма» представляла сложную сеть активов, объединённых в несколько ключевых кластеров — портовый, логистический, аграрный, энергетический и телекоммуникационный.
НМТП / NCSP — крупнейший российский порт, совместное владение с «Транснефтью». Через него проходила значительная доля экспортного потока нефти и нефтепродуктов, что делало актив стратегическим. Магомедов купил в 2010 году НМТП вместе с «Транснефтью». Ранее эта доля — через кипрскую Kadina Limited — принадлежала бизнесменам Аркадию Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько. Сделка прошла, мягко говоря, по замысловатой схеме. Сначала сам Новороссийский порт (НМТП) взял кредит в Сбербанке почти на $2 млрд и купил Приморский порт. А его хозяева, получив кэш и добавив собственные средства, приобрели кипрскую Kadina Limited. Ротенбергу достались $500 млн, Пономаренко и Скоробогатько (именно эти бизнесмены некоторое время владели «дворцом Путина» под Геленджиком) — по $1 млрд, Магомедов с партнёрами получил важнейший актив, а все эти манипуляции профинансировал Сбербанк. В минусе оказался сам НМТП и его миноритарные акционеры, поскольку именно на порт повесили обслуживание кредита.
FESCO (32,5 %) — мультимодальный логистический оператор, владелец Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). В 2012 году Магомедов купил FESCO у бизнесмена Сергея Генералова. Однако вскоре после ухода Медведева из Кремля стремительный взлёт Магомедова прекратился, и закрытие сделки по покупке FESCO несколько раз переносилось. В конце концов «Сумме» удалось привлечь пул иностранных банков для финансирования сделки.
ОЗК (50 % + 1 акция) — Объединённая зерновая компания, участник госпрограмм по экспорту зерна, в том числе гуманитарных поставок.
ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания) стала для группы точкой входа в газовый сектор Сибири и Дальнего Востока. Магомедовы видели в ней стратегическую возможность развивать сжиженный природный газ (СПГ) для внутреннего рынка и экспорта в Китай. В дальнейшем ЯТЭК должна была стать ядром будущего энергетического холдинга «Суммы».
«Сумма Телеком» развивала цифровую инфраструктуру и магистральные каналы связи, в том числе в отдалённых регионах. Формально компания позиционировала себя как независимый оператор, но фактически выполняла стратегические задачи по созданию цифрового контура в интересах госкорпораций и силовых ведомств.
Инжиниринговые и энергетические подразделения обеспечивали участие «Суммы» в региональных подрядах — от строительства электросетей и подстанций до объектов ЧМ-2018. Через них шло освоение федеральных программ и контрактов на миллиарды рублей. Эти структуры одновременно служили финансовыми «коридорами» и элементами влияния на местные элиты, особенно в регионах, где крупные федеральные компании не имели прямого присутствия.
В 2018 году имя Зиявудина Магомедова оказалось в так называемом «кремлёвском докладе» США, куда включались лица, ассоциированные с российской властью и крупным капиталом. Это резко повысило токсичность любых его международных сделок и проектов. Кроме того, Магомедовы активно участвовали в VIP-инициативах Кремля — от поддержки Ночной хоккейной лиги до благотворительных программ при участии первых лиц. Вероятно, в какой-то момент у них возникло ощущение неприкасаемости.
К моменту ареста братьев в 2018 году в Службе экономической безопасности ФСБ происходила глубокая перестройка. Руководителем СЭБ стал Сергей Королёв, а Управление «К» ФСБ возглавил его бывший подчинённый по Управлению собственной безопасности ФСБ Иван Ткачёв. Отношения между ними были непростыми; за назначением Ткачёва маячила фигура его бывшего шефа Олега Феоктистова, который на тот момент возглавлял службу безопасности «Роснефти». Феоктистов до перехода в «Роснефть» планировал возглавить СЭБ ФСБ, но Королёв обошёл его. И Ткачёв стал основным представителем «сечинского» клана в ФСБ. На этом фоне прежние договорённости между крупным бизнесом и кураторами «от экономики» перестали работать. В результате именно силовой блок сыграл особую роль в судьбе группы «Сумма» — в том числе через связку личных отношений руководства ВТБ и «Транснефти» с президентской администрацией и спецслужбами.
Разберёмся подробнее. В июне 2019 года президент ВТБ Андрей Костин официально попросил Владимира Путина помочь банку создать нового российского зернового лидера. Изучить вопрос было поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву, которого многие считали одним из политических бенефициаров бизнеса Магомедовых. Костин предлагал создать Объединённый зерновой холдинг: к тому моменту ВТБ уже собрал пакет активов — 33,7 % в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), 50 % минус 1 акция в Объединённой зерновой компании (ОЗК), которой принадлежал контроль в НКХП. Эти доли банк получил как раз после атаки на группу «Сумма». Дополнительно ВТБ купил Новороссийский зерновой терминал, 50 % плюс 1 акцию железнодорожного оператора «Рус-Транском» и 70 % трейдера «Мирогрупп ресурсы». Так был сформирован новороссийский кластер по перевозке и перевалке зерна. В дальнейшем, по состоянию на 2024 год, контроль над ОЗК фактически перешёл к ВЭБ.РФ, то есть государство через институт развития полностью консолидировало 100 % структуры.
По словам осведомлённых источников, идея атаки на Магомедовых с целью вернуть ОЗК под государственный контроль возникла ещё в начале 2017 года и понравилась Путину. В этом была своя ирония: поручение проработать вопрос получил именно Медведев. Опытный аппаратный игрок, он быстро сориентировался и дистанцировался от Магомедовых. Аналогично поступил и Аркадий Дворкович — давний знакомый Зиявудина Магомедова по МГУ.
«Мы с ним (Дворковичем) знакомы ещё со студенческих времён и дружим до сих пор», — рассказывал в 2012 году «Ведомостям» владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов.
Сразу после ареста Магомедовых Дворкович публично обозначил свою позицию и стал демонстрировать близость с главным оппонентом Магомедова — Сулейманом Керимовым. Дополнительный нюанс: супруга Дворковича много лет работала в компаниях Керимова; к тому же оба — лезгины по происхождению, что в дагестанской политике часто играет значимую роль.
Так в нашей истории проявился второй заинтересант атаки — Сулейман Керимов. Почти сразу после ареста братьев источники в бизнес-сообществе заговорили, что в тени силового сценария стоит сенатор от Дагестана — миллиардер, осторожно выстраивающий отношения с Кремлём и силовиками. Керимов и Магомедовы представляли два конкурирующих центра силы внутри дагестанской элиты. К 2018 году Керимов начал восстанавливать влияние в республике, опираясь на семейно-клановые связи и лояльных чиновников. Для него устранение «конкурирующего клана» открывало возможность стать единственным политико-экономическим центром региона.
Ещё в 2012–2014 годах структуры, аффилированные с Керимовым, проявляли интерес к логистике и морским активам. После ареста Магомедовых доля «Суммы» в НМТП отошла «Транснефти» — по свидетельствам ряда источников, не без участия посредников, близких к группе Керимова. Осведомлённые источники говорят, что войну с Магомедовыми в то время курировал бывший деловой партнёр Керимова, депутат Государственной Думы Магомед Гаджиев (известный в криминальных кругах как «Мага Фикса»). Позднее их пути разошлись.
Аналитики также отмечали, что в операциях вокруг НМТП и FESCO могли участвовать инвесторы, ассоциированные с «дагестанским пулом» сенатора. До 2017 года Керимов был крупным клиентом ВТБ, а после падения «Суммы» банк усилил позиции в логистике и агросекторе — в том числе в тех зонах, где ранее работала группа Магомедова. По данным журналистов, существует версия, что идею возврата ОЗК под государственный контроль Костину мог подсказать именно Керимов.
Дагестанские подрядные компании, ранее ориентированные на «Сумму», в 2019–2021 годах перешли под контроль структур, близких к группе Керимова. Это совпало по времени с обновлением правительства республики и перестановками в региональных силовых органах.
Третьим возможным бенефициаром уничтожения империи Магомедовых называли «Росатом». В 2018 году корпорация получила официальный мандат на развитие Северного морского пути (СМП), арктической логистики и портовой инфраструктуры. Генеральный директор Алексей Лихачёв и куратор транспортного направления Вячеслав Рукша продвигали идею превращения «Росатома» в «интегратора транспортного контура государства». Для реализации замысла требовались реальные логистические активы — терминалы, контейнерные линии, флот и IT-платформы. В этот контекст идеально ложилась FESCO, где у «Суммы» и TPG было 32,5 %.
FESCO контролировала Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), была ключевым оператором контейнерных перевозок между Азией и Россией и обладала широкой внутренней логистической сетью. После ареста Магомедовых актив оказался в подвешенном состоянии: доли арестованы, кредиторы (ВТБ, Сбербанк) усиливали давление. Именно в 2019–2021 годах на орбите FESCO начинают активно фигурировать структуры, связанные с «Росатомом».
«Росатом» и «Группа Дело» Сергея Шишкарёва создали совместное предприятие «Русатом Карго» — платформу для консолидации транспортных активов под СМП и дальневосточные порты. «Группа Дело» выступала операционным партнёром (порты, терминалы), а госкорпорация — институциональным инвестором и координатором. Этот альянс рассматривался как новый оператор FESCO; представители совета директоров компании уже тогда «работали в связке» с интересами госкорпорации.
Многие осведомлённые источники отмечали усилившееся влияние «Росатома» за счёт кадровых перестановок в силовом блоке: ставший в 2018 году руководителем СЭБ ФСБ Сергей Королёв вошёл в наблюдательный совет госкорпорации. Это, безусловно, сказалось на самом деле Магомедовых.
Официально «Росатом» отрицал участие в конфликтах вокруг FESCO:
«Росатом не имел и не имеет никакого отношения к процессам вокруг FESCO», — говорилось в комментарии корпорации для РБК (28 сентября 2020 года).
Тем не менее косвенные признаки — синхронные сделки, кадровые назначения, правительственные поручения, структура SPV — указывают на скрытое присутствие госкорпорации в периметре активов «Суммы». В итоге «дело Магомедовых» стало для «Росатома» окном возможностей: под прикрытием арктических программ и антикризисных решений корпорация получила доступ к активам, обеспечивающим контроль над «морскими воротами» страны.
Четвёртым бенефициаром атаки стала «Транснефть» и её глава Николай Токарев, занявшие центральное место в истории перераспределения активов «Суммы», прежде всего в контексте НМТП — ключевого портового узла страны. Это был первый и самый показательный пример «жёсткой национализации» после ареста Магомедовых. До конфликта Зиявудин Магомедов и Токарев оставались стратегическими партнёрами и в 2011–2013 годах совместно контролировали НМТП, через который проходило до 30 % экспорта нефти и нефтепродуктов. К 2016–2017 годам отношения ухудшились: «Транснефть» всё чаще обвиняла партнёров в непрозрачности управления, а Магомедовы публично говорили о давлении со стороны монополии.
После ареста 31 марта 2018 года доля «Суммы» в НМТП была арестована и заблокирована. Это стало сигналом для Токарева: впервые за годы партнёрства госкомпания могла полностью консолидировать порт. Уже к осени 2018 года «Транснефть» вела переговоры с правительством и Минфином о переводе пакета в госсобственность «в целях защиты национальных интересов». Формулировка — «обеспечение стабильности нефтяного экспорта» — легализовала фактическое изъятие. Актив оценили примерно в $750 млн, сумма вошла в массив взысканий по делу Магомедовых. В 2022–2023 годах суды окончательно закрепили переход прав. Итог: «Транснефть» стала единственным фактическим владельцем НМТП.
Сам Николай Токарев, возглавляющий «Транснефть» с 2007 года, — одна из самых закрытых, но ключевых фигур постсоветского экономико-силового ландшафта. В 1980-е он служил в КГБ в Дрездене, где пересекался с Владимиром Путиным. Затем руководил «Зарубежнефтью» и получил в управление «Транснефть», контролирующую все магистральные нефтепроводы страны. Под его руководством компания стала не просто транспортным монополистом, а финансовым центром притяжения валютных потоков сырьевого экспорта. Передача контроля над НМТП позволила замкнуть на «Транснефть» весь экспортный контур — от трубы до танкера. Так Токарев закрепился в системе как главный «казначей» нефтяной логистики.
По данным наших источников, в действиях силового блока чувствовался активный патронаж Сечина. Токареву действительно помогали его ставленники в спецслужбах. Ключевую роль играл все тот же Иван Ткачёв, глава управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Управление Ткачёва занималось контролем за крупными экспортными потоками и проектами, где как раз и пересекались интересы «Роснефти» и «Транснефти».
Сечин давно испытывал неприязнь к Магомедовым: ещё в феврале 2017 года «Роснефть» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Новороссийский морской торговый порт (НМТП), заявив, что ежемесячные расходы на перевалку нефти выросли почти на 50 млн рублей «без объективных оснований — лишь из-за девальвации».
ФАС поддержала жалобу «Роснефти», оштрафовав НМТП почти на 10 млрд рублей. Тогда президент «Транснефти» Николай Токарев встал на сторону Магомедовых и направил письмо главе службы Игорю Артемьеву, назвав действия ведомства «безосновательным и неправомерным вмешательством». Спор между длился почти год, и в феврале 2018 года федеральный арбитраж окончательно снял с НМТП штраф.
Мы, вероятно, никогда точно не узнаем, кто именно стоял за масштабной атакой на империю Магомедовых — Сечин, Токарев, Керимов, «Росатом» или кто-то ещё. Скорее всего, это был симбиоз интересов — совпадение воли нескольких кланов, для которых падение «Суммы» стало удобным моментом укрепить свои позиции. Именно поэтому «дело Магомедовых» не имеет единственного заказчика: оно — продукт системы, где силовые, финансовые и политические контуры действуют как единый организм, поглощая тех, кто утрачивает покровительство.
Ослабление Дмитрия Медведева стало лишь катализатором процесса. Клан, сформировавшийся вокруг него в 2010-е годы, потерял влияние, и вместе с ним рухнули все связанные с ним бизнес-структуры. История «Суммы» — это не просто частная трагедия двух братьев, а зеркало трансформации российской элиты, где частная собственность существует лишь до тех пор, пока совпадает с интересами государства.