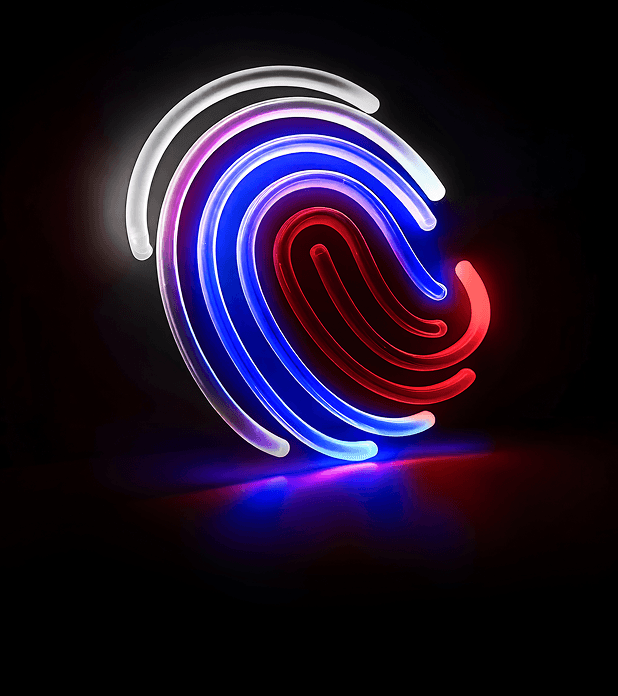В российских политических кругах имя Дмитрия Николаевича Патрушева уже много лет окружено ореолом «надёжного преемника Вождя», наследника мощной силовой династии и хранителя продовольственной безопасности страны. Сын всесильного соратника Путина, бывший банкир и министр сельского хозяйства, Патрушев-младший был призван превратить аграрный сектор в гордость новой «суверенной экономики».
Однако за фасадом официальных речей и успехов с высоких трибун всё чаще слышатся другие голоса — тех, кто говорит о провалах и коррупции в сельскохозяйственной отрасли. В последние годы в этих разговорах всё настойчивее всплывает одно имя — Оксана Лут, нынешний министр сельского хозяйства, давняя соратница и, по многочисленным слухам, гражданская жена Дмитрия Патрушева.
В медиапространстве, от Telegram-каналов до расследовательских порталов, всё чаще появляется образ Лут как «мистической хранительницы урожая» — женщины, увлечённой древними культами, шаманами и ритуалами, которая будто бы верит, что можно «вызвать дождь молитвой и свечкой». Эти истории переплетаются с разговорами о её особом положении при Патрушеве и о том, что их союз — не просто служебный роман, а полноценный гражданский брак, результатом которого стало рождение ребёнка.
Можно ли считать всё это лишь плодом политических интриг и информационных вбросов? Или за странными заявлениями министра действительно скрывается нечто большее — системный кризис управления и непрофессионализм, прикрытый мистицизмом?
В этой статье мы попробуем рассмотреть, насколько слухи о «любовной и мистической вертикали» отражают реальные механизмы кадровой зависимости и внутриполитической борьбы в правительстве и почему российская аграрная политика за последние годы оказалась в кризисе — можно ли этот крах объяснить не шаманскими обрядами, а вполне земными причинами.
История Оксаны Николаевны Лут — классический пример восхождения по бюрократическому Олимпу с налётом светского гламура. Родившись в Москве в 1979 году, она окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит» — благородная стартовая площадка для человека, чья судьба должна была пересечься с влиятельным кланом Патрушевых.
Первые шаги Лут сделала в частных финансовых структурах — в «Альфа-Банке», затем во ВТБ, а уже позднее перешла в государственный сектор. Карьера развивалась стремительно: в начале 2010-х она появляется в Россельхозбанке, ключевом институте аграрного финансирования, где почти одновременно с ней начинает работу Дмитрий Патрушев. Там, в консервативной атмосфере госбанка, зародился тандем, которому суждено было перейти в министерские кабинеты.
Когда в 2018 году Патрушев-младший возглавил Министерство сельского хозяйства, он, не изменяя традициям российского «кадрового семейства», взял проверенных людей из своей прежней команды. Среди них — Лут, уже тогда известная своей исполнительностью и умением «не теряться при начальстве». Сначала она заняла должность заместителя министра, затем, с конца 2021 года, стала первым замом, а в мае 2024 года — и вовсе министром сельского хозяйства Российской Федерации.
Для внешнего наблюдателя — безупречная вертикальная траектория. Или, если смотреть глубже, пример того, как доверие и личная лояльность в путинской номенклатуре нередко оказываются важнее компетенции и системных решений.
Такое карьерное сближение, подкреплённое годами совместной работы, породило закономерный шёпот в коридорах власти и взрыв фантазий в медийном пространстве. В кулуарах министерства Лут стали называть «правой рукой Патрушева», но более осведомлённые источники выражались куда более откровенно и прямо называли Лут гражданской женой.
В публичном образе нынешней главы Минсельхоза всё чаще подчёркивается контраст между декларативной «скромностью служения государству» и реальностью светской роскоши. На официальных приёмах и отраслевых форумах Лут неизменно демонстрирует вкус к дорогим аксессуарам и ювелирным украшениям, превращая каждое публичное появление в демонстрацию статуса и власти. По наблюдениям многих участников светских мероприятий, Лут считается владелицей одной из самых крупных коллекций сумок Birkin и ювелирных изделий от Cartier и Graff в России. Для аграрного сектора, где фермеры считают каждую копейку, подобная эстетика власти выглядит особенно вызывающе. Хотя справедливости ради стоит отметить, что огромной коллекцией сумок Birkin Оксана Лут обязана еще одному своему «сердечному» почитателю —владельцу Новоросметалла Шалве Гибрадзе. Но эта история заслуживает отдельной статьи.
С появлением Лут в кресле министра информационное поле вокруг аграрного блока мгновенно накалилось. Одни Telegram-каналы обвиняли её в некомпетентности и разрушении отрасли, другие — в «оккультном мышлении» и «неестественном влиянии на министра». В некоторых публикациях её без обиняков называют «любовницей Патрушева» и «главной виновницей картофельного кризиса».
Особенно бурно обсуждалось её заявление, сделанное летом 2024 года:
«Сеем в песок и молимся, чтобы пошёл дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье, чтобы пошёл дождь. Всех призываю!»
Эта фраза, прозвучавшая в контексте засушливого сезона, мгновенно разошлась по соцсетям, обретя жизнь отдельного меметического явления. Министра стали называть «шаманкой урожая», а её политику — «аграрным колдовством».
На фоне затопленных южных регионов, заморозков в Поволжье и песчаных бурь в Сибири эти слова прозвучали одновременно как признание бессилия системы.
Добавило масла в огонь и другое заявление — почти бытовое, но мгновенно ставшее мемом:
«Надо есть меньше картошки».
Фраза, вырванная из контекста бюджетных споров, была воспринята как символ элитарного презрения к народу — особенно в стране, где картофель давно заменяет золото, валюту и надежду.
Как бы ни хотелось поверить в то, что провалы российского агропрома вызваны проклятием древних богов или шаманскими плясками под дождём, реальность, увы, куда прозаичнее — и куда безысходнее. Российское сельское хозяйство переживает системный кризис, в котором мистика служит лишь удобной метафорой управленческой некомпетентности.
За блестящими цифрами официальной статистики скрывается всё то же, что и в любой другой отрасли государства вертикалей и приближённых: неэффективность, перекосы в приоритетах, ручное управление и клановый контроль.
Даже несмотря на гордые отчёты о «рекордных сборах зерна», последние сезоны показывают устойчивый спад производительности. Климатические аномалии — засухи, заморозки, затопления — бьют по урожаям сильнее любых санкций. Но куда больнее ударяет недофинансирование и логистическая разруха.
Фермеры жалуются на невозможность получить льготные кредиты: ставки растут, а доступ к финансированию часто решается «по звонку». Семенной фонд деградирует, импортозамещение буксует, а цены на удобрения и топливо делают каждое поле экономическим самоубийством.
Вместо поддержки со стороны министерства — контроль. Вместо стратегии — квоты. Российская аграрная политика превратилась в систему административных экспериментов, в которой абсолютно некомпетентный министр решает, сколько зерна, мяса или молока страна может экспортировать, не нанеся урон «внутренней стабильности».
Жёсткое регулирование цен и экспортных пошлин, призванное «защитить потребителя», фактически убивает производителя. Когда государство силой удерживает цены на внутреннем рынке, фермеру остаётся одно — закрыться или уйти в тень.
На этом фоне расцветают «аграрные союзы» и «экспертные советы», которые, как правило, возглавляют друзья, родственники или бывшие коллеги, близкие к клану Патрушевых или к самой Лут. Под видом продовольственной безопасности формируется коррупционный механизм ручного перераспределения миллиардов, где выигрывает не тот, кто сеет, а тот, кто сидит ближе к креслу министра или имеет с ней особые отношения.
Парадокс в том, что Россия продолжает оставаться крупнейшим экспортёром зерна — более 50 миллионов тонн за последний сезон. На внешних рынках страна выглядит уверенно, но это уверенность на зыбкой почве. Экспорт стал самоцелью, а не инструментом развития отрасли.
Внутренние цепочки переработки разорваны, сельская инфраструктура деградирует, квалифицированные кадры уходят. В регионах, где ещё недавно строились элеваторы и теплицы, теперь пустуют поля.
Так что, если снять мистический флёр с Оксаны Лут и её ведомства, остаётся сухой остаток: управленческая катастрофа, обёрнутая в пиар о духовности и мечтах о продовольственном суверенитете. Проблема не в шаманах, а в тех, кто решает сложнейшие отраслевые проблемы в постели.
И если Россия вновь вынуждена закупать овощи и фрукты за рубежом, это не потому, что «небеса отвернулись», а потому, что вся система работает по принципу: «вертикаль вместо рынка, лояльность вместо компетенции».