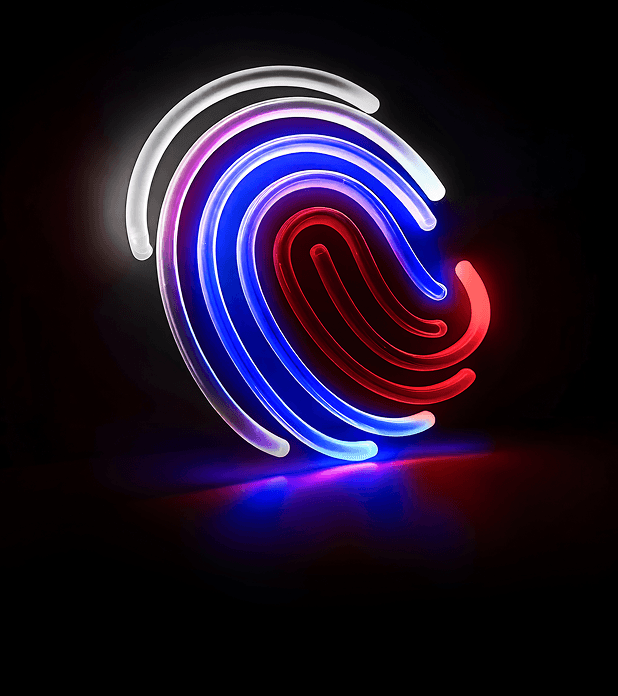На пленарном заседании AI Journey Герман Греф обратился к президенту России с темой, которая еще недавно считалась уделом футуристов. По словам главы Сбера, «фактическое бессмертие» может стать реальностью уже в ближайшие 6–7 лет. Владимир Путин, реагируя на заявление, назвал достижимой планку в 150 лет. Параллельно в России и Китае разворачиваются проекты по продлению жизни, финансирование которых растет в геометрической прогрессии. «Преступная Россия» пытается разобраться, почему тема бессмертия оказалась в фокусе первых лиц и насколько научно обоснованы подобные планы.
Для международных конференций по искусственному интеллекту смелые прогнозы — дело привычное. Но то, что прозвучало из уст Германа Грефа, стало одной из самых цитируемых реплик форума:
«Американский футуролог Рэй Курцвейл считает, что люди, которые проживут ближайшие 6–7 лет, получат шанс обрести бессмертие», — напомнил глава Сбера. — «По его прогнозу, переломный момент наступит около 2032 года».
Фантаст Чэнь Цюфань — участник диалога — на тему бессмертия ответил уклончиво, рассказывая о примере своей матери и потенциальной роли ИИ в медицине. Но вопрос Грефа стал важным не потому, что его адресовали писателю. А потому, что обсуждение подхватил президент.
«Можно, наверное, довести жизнь до 150 лет», — заметил Владимир Путин, — «но главный вопрос — зачем и ради чего жить».
Эта фраза могла бы остаться обычной риторической фигурой, однако в последние месяцы тема долголетия становится сквозной — и в публичных заявлениях власти, и в конкретных государственных расходах.
Почему вопрос продления жизни вдруг поднимается на встречах мировых лидеров? Отвечает не футурология, а политика. В начале сентября мировые СМИ пересказывали случайно записанный диалог Путина и Си Цзиньпина по дороге на парад в Пекине.
Переводчик китайского лидера передал фразу Си:
«Раньше люди редко доживали до 70, а теперь в 70 лет ты всё ещё ребенок».
Ответ Путина был еще прямолинейнее:
«Биотехнологии развиваются. Человеческие органы можно пересаживать постоянно. Чем дольше живёшь, тем моложе становишься — можно даже достичь бессмертия».
Рядом в тот момент шел Ким Чен Ын, который, судя по кадрам, слушал разговор с неподдельным интересом. В этой сцене одновременно было все: и символика, и жесткая прагматика. Лидеры государств, где вопрос власти жестко персонализирован, обсуждают возможность продления жизни. Государственный интерес совпадает с личным — и тема «150 лет» становится не философской, а институциональной.
Параллельно с публичными заявлениями власти финансирование исследований по старению бьёт рекорды.
И Китай, и Россия уже вышли за рамки академических дискуссий о старении — в обеих странах долголетие превращено в крупные государственные программы. Пекин объявил о намерении сделать страну мировым центром антивозрастных технологий: под эгидой Миннауки КНР формируется комплексная стратегия, включающая развитие органного биоинжиниринга, выращивание донорских органов, генетические терапии и массовое внедрение ИИ-диагностики. Бюджеты — миллиардные: только в рамках национальной инициативы Healthy China 2030 на биомедицину и технологии «здорового долголетия» направляются десятки миллиардов долларов, а крупнейшие исследовательские кампусы, созданные при участии госкомпаний, получают финансирование, сравнимое с военными отраслевыми проектами. В Китае продление жизни — это не футурологический проект, а часть государственной модели развития, где биотехнологии стоят в одном ряду с квантовыми вычислениями и космическими программами.
С китайской стороны витриной новой политики долголетия стал стартап Lonvi Biosciences из Шэньчжэня. Компания заявила о создании экспериментальных «таблеток долголетия», которые якобы способны довести продолжительность жизни до 150 лет. Препарат построен вокруг соединений из виноградной косточки и нацелен на так называемые «зомби-клетки» — сенесцентные клетки, которые перестают делиться, но поддерживают хроническое воспаление.
По словам технического директора Lonvi Лю (Лю/Люй) Цинхуа, «жить до 150 лет вполне реально, и через несколько лет это может стать нормой»; именно так стартап вписал себя в волну обсуждений, начавшуюся после утечки разговора Си и Путина о «бессмертии». При этом даже в публичных заявлениях подчеркивается: речь идет об очень ранней стадии — результаты ограничены доклиническими и первыми клиническими данными, а реальное «перехитрить смерть» пока остается за пределами доказательной медицины.
Россия движется в том же направлении, но с более выраженной персонализацией решений. В 2025 году президент поручил запустить национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» — его бюджет оценивается примерно в 2 трлн рублей, и в эту сумму входят исследования старения, разработка препаратов для регенерации тканей, генетические платформы и ИИ-системы мониторинга биологического возраста. Параллельно с публичными заявлениями власти финансирование исследований по старению бьёт рекорды. Согласно данным «Новой Европы», объем средств Российского научного фонда, выделяемых на проекты в области старения:
2016–2020: 21 млн руб.
2021–2025: 172 млн руб.
Рост — в восемь раз. Куратором фондов и крупных генетических программ выступает Курчатовский институт Михаила Ковальчука— давнего соратника президента, которого источники называют человеком, лично убежденным в необходимости радикального продления жизни.
Ключевая фигура в этой сфере — Мария Воронцова, старшая дочь Путина, кандидат медицинских наук и заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ. Она возглавляет проект по изучению клеточного обновления организма. Её индекс Хирша скромнее, чем у других руководителей проектов мирового уровня, но это не помешало ей получить крупный грант РНФ.
Фактически Воронцова стала одним из публичных лиц государственной программы долголетия, а её сестра Катерина Тихонова курирует направления искусственного интеллекта. Фокус власти — здоровье, биотех, генетика, ИИ, долгосрочное управление страной.
Российским символом поворота к биотехнологиям долголетия Кремль сделал научно-технологический университет «Сириус». Лабораторный комплекс, открытый в 2022 году, специализируется на генетике и биотехнологии растений; во время визита в сентябре Путину показали «молодильную клубнику» и «виноград будущего», созданные методом точечного редактирования генома. Клубника, как пояснили ученые, содержит примерно в 12 раз больше кверцетина — природного антиоксиданта, который активно фигурирует и в западных исследованиях антивозрастных сенолитиков; именно поэтому разработку в шутку назвали «молодильной».
Формально это всего лишь агротехнологический проект, но политически он работает как витрина: наглядная демонстрация того, что тема продления жизни уже встроена в государственный нарратив — от национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» до персонального интереса президента к любой технологии, которая обещает отодвинуть биологический предел человеческого возраста.
Россия, Китай, Европа и Корея входят в полосу стремительного старения: доля граждан старше 65 лет растет быстрее, чем рождаются новые налогоплательщики. Для экономик, выстроенных на промышленном производстве и масштабных социальных обязательствах, это означает неизбежное сжатие активной рабочей силы и рост нагрузки на бюджеты. В этих условиях повышение продолжительности жизни превращается из гуманистической цели в инструмент удержания экономической динамики — попытку продлить период продуктивности человека и отсрочить демографический обвал.
Мировые корпорации и государства одинаково внимательно следят за тем, что еще недавно считалось нишей футурологии. По оценкам аналитиков, рынок антиэйдж-технологий к 2030 году приблизится к $600 млрд, а его влияние будет сопоставимо с фармацевтическим или IT-сектором. Инвестиции в долголетие становятся не просто ставкой на здоровье населения, а вопросом технологического суверенитета: страна, контролирующая наиболее эффективные методы продления жизни, фактически контролирует качество своей рабочей силы, бюджетные траектории и конкурентоспособность на ближайшие десятилетия.
Научное сообщество сегодня расколото в оценках пределов человеческой жизни. Первая группа исследователей исходит из того, что природа уже очертила потолок возможностей: максимальная зафиксированная продолжительность жизни человека, принадлежащая француженке Жанне Кальман, составляет 122 года, и этот рекорд стоит почти три десятилетия. По их мнению, организм работает как сложная машина с заранее заложенными ограничениями — теломеры сокращаются, клетки проходят ограниченное число делений, ткани постепенно теряют способность к регенерации. В этой логике рубеж в 150 лет выглядит не научной перспективой, а попыткой спорить с базовой физиологией.
Сторонники этого подхода подчеркивают: даже самые впечатляющие достижения геронтологии пока не позволили радикально изменить фундамент биологии старения. Увеличение продолжительности жизни у животных в экспериментах не всегда переносится на человека, а вмешательства на клеточном уровне сталкиваются с теми же барьерами, которые формировались эволюцией миллионы лет. С их точки зрения, разрыв между 122 и 150 годами — не просто разница в цифрах, а принципиальная граница между мечтой о бессмертии и реальностью, в которой тело всё ещё подчиняется собственному износу.
Путин и Си, каждому из которых уже за 70, сами становятся частью демографической реальности, о которой говорят их министры и советники. Их возраст усиливает борьбу со старением и превращает этот процесс не просто в национальный проект, а в стратегическую задачу сохранения управляемости системы. Именно поэтому оба лидера концентрируют в этой сфере максимальные ресурсы и делегируют её развитие людям, которым доверяют без оговорок — от ближайших научных кураторов до членов собственных семей. В такой конструкции долголетие перестает быть медицинской темой: оно становится способом продлить жизнеспособность правящего режима.